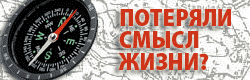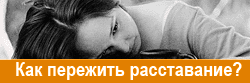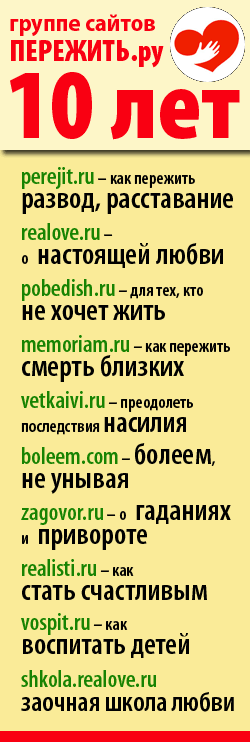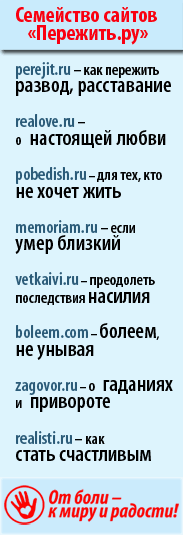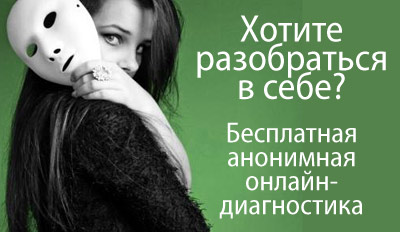Перед открытой дверью
Мне хотелось бы посвятить свой рассказ и выразить благодарность, любовь и уважение отцу Артемию, отцу Георгию, отцу Михаилу, отцу Михаилу, диакону Александру, которые помогли мне открыть чудесный мир веры, а также Антону Фурсову и его мамочке Ольге, Александру Ершеву, Ольге Телкиной, Александру Федотову, Танечке из Тулы и многим-многим другим людям, которые терпеливо несут свой крест и перед чьим мужеством я преклоняюсь:
Автор
Моя жизнь раньше проходила в какой-то постоянной суете. Людям вообще свойственно всегда куда-то торопиться, боясь опоздать на работу, учебу, чей-то день рождения, в клуб на дискотеку, в магазин. Они живут для того, чтобы зарабатывать деньги, а деньги нужны для того, чтобы их проживать. Только почему-то чем больше человек зарабатывает, тем больше ему не хватает. Это замкнутый круг, по которому люди бегут всю жизнь, и я не была исключением.
У Талькова, в одной из его песен, есть очень красивые строки:
«Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге».
И действительно, куда бы человек ни торопился, чем бы ни был занят, столкнувшись со смертью, он всегда, хоть на минуту, остановится. Но ненадолго. К сожалению, мы с нашим советским наследием мало задумываемся о Боге и как будто забыли, что есть смерть. Мы не хотим знать этих слов, боимся их и живем так, будто там, за последней чертой, ничего нет. Такой взгляд на смерть, наверное, — просто оправдание вседозволенности современной жизни. Думаю, у каждого человека в глубине сознания возникал вопрос: «А вдруг там и правда что-то есть?» Спокойнее жить, задвигая такие мысли куда-нибудь в дальний уголок: «Я потом подумаю об этом, время есть». Ведь если задумываться, то, может, придется что-то менять в себе и жить так, чтобы в любой день быть готовым держать ответ за свои поступки, слова и даже мысли. Много ли среди нас таких?
Проще воспринимать смерть всего лишь как непоправимое несчастье, испытывая внутреннее облегчение оттого, что это произошло не с тобой и не с кем-то из твоих близких, и верить в то, что кому-то просто не повезло. Жить так, будто человек бессмертен, и все зависит лишь от удачи, не боясь ни Бога, ни дьявола, одушевляя похороны, одевая покойника в костюм получше и укладывая его в гроб подороже. Ну какая, спрашивается, ему разница? А обычай ставить на поминках стопку водки перед фотографией? По-моему, только в воспаленном мозгу алкоголика может возникнуть картина распития ее покойным.
Все это — наследие нескольких поколений, выросших без Бога.
У наших предков, которых с детства воспитывали с Богом, не было такого удручающего отношения к смерти. Им с детства прививалось понимание, что человек здесь явление временное. Меня поразила надпись, высеченная на одном из памятников Кунцевского кладбища — «Ты дома, а мы в гостях». Хотя меня раньше пугало все, что было связано со смертью, эта фраза не показалась мне страшной, скорее от нее веяло покоем. Наши предки, если боялись, то не самой смерти, а именно перехода и ответа за свои поступки. Вдумайтесь в сами слова — преставился, усопший. Не умереть, а именно перейти, уснуть, проснувшись для новой жизни. Слова многих молитв говорят нам об этом и даже указывают путь. Но много ли мы знаем молитв? Да и сами слова, написанные на церковнославянском, стали для нас словами иностранного языка. Раньше этот язык усваивали с раннего детства. Ребенок учился разговаривать и одновременно, вместе со взрослыми, начинал ходить в храм, принимая участие в церковной жизни. Не выучить язык богослужения было просто невозможно.
Церковнославянский язык, так же, как, например, латынь или древнееврейский, относится к группе мертвых языков. Раньше меня несколько отталкивало такое название, пока я не поняла что это не связано со смертью. Скорее оно отображает чистоту жизни, не замусоренную изменениями, которые рано или поздно претерпевают все языки в повседневном общении. Мертвые языки — для души, они очищены от повседневной суеты.
Однажды мне попалась статья в православном журнале, и в ней слово: лазоревый. Это значит — синий, но, кроме конкретного определения, такое понятие затрагивает в душе человека отголоски целой палитры цветовых оттенков. Я потом у многих людей специально интересовалась, с каким цветом оно у них может ассоциироваться? Называли разные цвета — все оттенки розового, голубого, фиолетового и даже золотого. Кто-нибудь может мне указать в современном русском что-то похожее — такие красочные, переливающиеся и просто звенящие чистотой слова.
Скорее можно встретить нечто другое. Например, то, с чем я столкнулась однажды утром в метро. Мне тогда приходилось рано вставать на работу и по дороге, в метро, невыспавшаяся, я пыталась немножко подремать. Соседа напротив не было видно из-за развернутой газеты, в чтение которой он углубился. На шелест очередной переворачиваемой страницы я чуть приоткрыла глаза и от того, что увидела, раскрыла не только их, но, по-моему, и рот. Через весь газетный лист над какой-то статьей крупным шрифтом было написано: «Ушли от X и пришли к Ж». Сон как рукой смахнуло. По выходе из метро я не поленилась и купила газету со столь потрясшим меня заголовком. Все оказалось несколько приличней: в статье говорилось про Хасбулатова и Жириновского. Не помню, о чем была сама статья, — что-то типичное для тех, перестроечных, времен — но заголовок запомнился, хотя было это примерно в девяносто пятом. Сегодня в наших газетах можно встретить что-нибудь и похлеще: по-моему, мы пришли не к «Ж» и не к «X», а к чему-то более страшному. Что же мы с собой сделали, что потеряли, что же, в конце концов, у нас просто украли?
В течение семидесяти лет несколько поколений с детства заставляли поклоняться идолу, детоубийце, чье тело все еще находится в центре столицы. И что мы получили? Подмену человеческих ценностей. Гордость заменила собой жалость и милосердие. Кто придумал, что жалеть — значит унижать? Люди разучились выражать свои чувства, стали бояться быть непонятыми, смешными, нудными. Мы чувствуем себя по большей части никому не нужными. Доброта стала считаться слабостью, люди стесняются ее выражать. Словом любовь стали обозначать физическое действие. Куда уж дальше? Бедные люди, отвернувшиеся от Бога, куда мы пришли? Я не отличаюсь большим знанием, предполагающим толкование Священного Писания, но, наверное, про такие времена говорится в Новом Завете: И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь (Мф. 24, 12).
Что же в такой жизни делать людям, которым, как мне, в один момент пришлось очутиться на пороге двери, распахнувшейся в нечто страшное и тяжелое — в болезнь?
* * *
Когда-то я жила как большинство — работа, карьера, семья, дети — и все бегом. Казалось, что-то важное еще впереди. Как же я ошибалась! В один далеко не прекрасный день я услышала удар колокола. Было вчера, сегодня, но больше не было завтра.
Время остановилось, когда мне прочитали диагноз, даже не прочитали, а просто сунули под нос листок бумаги, добавив, что за «стеклами» (это, как выяснилось потом, — результат биопсии) надо идти в патолого-анато-мическое отделение, в морг. Добрые люди, люди добрые! Какие «стекла», какое патолого-анатомическое? Ну, зачем же так?
До того мне только один раз доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Жена моего дяди, Танечка, болела лейкемией. Хотя ей часто делали химиотерапию, с виду она была совсем здоровой и никогда не жаловалась. Я, к моему стыду, за все пять лет ее болезни из-за трусости никогда не говорила с ней на эту тему. В Москве я бывала наездами, виделась с ней мало. Она ничего не рассказывала о своей беде, наверное, не желая портить мне радость от приезда домой, и я не спрашивала, замечая очередной курс ее химиотерапии лишь по тому, был ли на ней парик или нет. Бедная Танечка, прости мне мою трусость, переходящую в черствость. По молодости я вообще шарахалась ото всего, что было связано со смертью, даже на похороны дедушки и бабушки родители, жалея меня, маленькую, не взяли. Так что Танечкины были первыми в моей жизни. Помню их смутно, так как от страха и волнения все время боялась, что упаду в обморок. Я такая же скуластая и темноглазая, какой была она, поэтому на похоронах постоянно спрашивали, не сестры ли мы? Это еще больше меня подкашивало. Еще мне запомнилось удивление: она совсем не была похожа на человека, умершего от тяжелой болезни.
За свое малодушие я и поплатилась. Мои представления о том, что происходит, когда случается такое несчастье, были в основном сформированы по фильмам: врачи и родственники скрывают диагноз от больного, убеждая его что это так, какой-нибудь гастрит, или, наоборот, узнав о своем диагнозе, человек сам скрывает его от близких, красиво страдая. Или какая-нибудь потрясающая любовь, которая помогает уходить, — благодарно держась за чью-то руку. Вариантов было много, но все трогательно красивые и мужественные.
Моя действительность оказалась совсем другой — страшной. Не было рядом близкого человека, и я не помню лица врача, которая, скорее всего, отводила глаза. Я стояла растерянная, всматриваясь в строчки выписки, чувствуя, как от сдерживаемых слез стекленеют глаза и мир вокруг становится серого цвета. В голове не было ни одной мысли и только кружились обрывки фраз: рак, патолого-анатомическое отделение... Только вчера у меня была работа, были муж, может, и не самый лучший, но мой, любимый, чудесный сын, а тут какое-то легкое недомогание, на которое я старалась не обращать внимания... Пришел страх и ощущение непоправимого. Я никогда не понимала, как люди живут, зная, что у них рак, ведь это — каждый день видеть перед глазами, как сказал один мой знакомый, перевернутые песочные часы.
Люди, как правило, всегда находят решение своих проблем, избавление от страхов или, по крайней мере, у них есть надежда на это: если боишься высоты — не лезь в горы, не любишь темноты — спи при свете, нужны деньги — работай, много денег — открывай свое дело. Даже сидя в тюрьме, человек знает, что рано или поздно он выйдет и что можно надеяться на амнистию. В конце концов, те, кому лень что-то менять, просто решают свои проблемы, наплевав на все и выпивая каждый день. Вечером выпил — никаких проблем, а утром так болит голова, что одна проблема — чем бы опохмелиться. До болезни я считала, что безвыходных ситуаций не бывает, выход есть всегда. Другое дело, что эти решения не всегда нас устраивают, но в целом от проблем, как правило, так или иначе избавляются, они не длятся вечно...
Но тут я столкнулась с чем-то, что было выше и страшнее всего этого. От этого некуда спрятаться и не убежать. Даже если бы я напилась в стельку, чтобы ничего не соображать, то все равно когда-нибудь пришлось бы протрезветь. Не было никакой надежды.
Когда меня положили в больницу, то оказалось, что операцию делать уже поздно. Круг, по которому я бежала столько времени, разомкнулся. На мир вокруг меня упало что-то темное. Все слова стали плоскими и тусклыми, да и что можно было сказать? Что как-нибудь обойдется? Если бы я вышла на улицу, крича и моля о помощи, то допуская, что вместо онкологического диспансера меня не забрали бы в психиатрический, и мне удалось бы собрать огромную толпу людей, где каждый второй был бы врачом, даже в этом случае, что они смогли бы мне предложить и сказать в утешение? Осознание этой неотвратимости убивало меня.
* * *
Я не буду подробно описывать лечение — только общие или просто запомнившиеся моменты. В онкологии, при одинаковой степени заболевания и одинаковом лечении, один человек встает на ноги, а другой — нет. И это зависит не от крепости организма или возраста. Поэтому я постараюсь не давать повода для сравнений. Как бы ни были похожи случаи, у каждого в этой болезни свой путь, предназначенный только для него одного. Врачи не опровергают этого и природу таких выздоровлений (или наоборот) чаще объясняют силой воли и жаждой жизни самого человека.
В моем случае единственным, на что тогда решились врачи, было облучение по максимальной программе. Маленький Чернобыль. С той разницей, что в Чернобыле под облучение попадал весь организм, а меня старались облучать прицельно: только пораженный орган. Сделали замеры и отдали их специальным инженерам, которые, проведя расчеты, сообщили размеры и глубину зоны облучения. Эти расчеты наносили на тело черными, красными или синими маркерами, и мы все ходили раскрашенные. Особенно приковывало глаз, если у кого-то расчерченная зона находилась в области, не скрытой под одеждой. Старались не смотреть, но глаз невольно зацеплялся за черно-синие линии и звездочки.
Лечение было разделено на два курса. Первый — наружное облучение.
Сама комната, где проходили процедуры, вызывала у меня ассоциации с бункером или кабиной космического корабля. Такое сходство ей придавали толстые стальные двери, разъезжающиеся в разные стороны, и соседняя комната — с врачами, сидящими, как в центре управления полетами, перед множеством приборов, датчиков, передающих какие-то данные, и мониторов, показывающих кушетку, на которую ложишься под облучение. Сам сеанс был очень коротким, несколько минут на животе и столько же на спине, с подставленным под какой-то аппарат разрисованным участком тела. Чтобы отвлечь себя и не бояться (хотя все было абсолютно безболезненно, сердце все равно каждый раз испуганно колотилось), я пыталась переключить внимание, например, представляя, как я выгляжу на экране монитора. Тут же в голову лезли кадры из кинохроники полета Гагарина. Хотя у него были другие цели и на экране была видна в основном его голова в скафандре, а меня показывали в полный рост, да еще с закатанной одеждой, мне все время хотелось сказать его слова: «Поехали!», — и помахать рукой. При этом мне становилось смешно. Я знала, что смеяться неудобно, но хихиканье начинало разбирать меня еще больше. Не знаю, было ли все это заметно врачам, но если да, то вид, наверное, у меня был преглупейший.
Первый раз я провела в больнице больше месяца. Люди по-разному переносили болезнь, кто-то делал вид, будто ничего страшного не случилось, другие, как я, замкнулись. Но как бы глубоко внутрь не прятали в себя страх, по жадному вниманию, с каким записывали рецепты или слушали истории о случаях выздоровления, можно было понять, как все страдают и жаждут исцеления. Я была чуть ли не единственной, кто не прислушивался к таким разговорам, считая, что если бы и нашлась панацея от рака, то, наверное, это стало бы открытием мирового масштаба, отмеченным Нобелевской премией и всеобщим признанием, а не записывалось бы от руки в палатах. Единственное, что мне почему-то запомнилось из подобных бесед, — это рассказ соседки по палате, Наташи, про Матронушку.
* * *
В прессе и по телевидению постоянно мелькают материалы о целителях, белых магах, черных магах, летающих тарелках, хилерах — так называемых хирургах без скальпелей — и много другой бестолковщины. Привороты, отвороты, удача в бизнесе — послушать все это, так весь мир за один сеанс можно сделать счастливым. О настоящих чудесах и замечательных, святых людях, наших современниках, соотечественниках практически нет никаких публикаций, а если и написано, то скорее это — церковная литература или что-то услышанное случайно. Вот, например, Матронушка — это почти наша с вами современница, но много ли мы встречаем упоминаний о ней? Зато в одной центральной газете не проходит месяца, чтобы не было статьи о сомнительных чудесах болгарской Ванги.
Матронушка родилась в начале девятнадцатого века в селе Себене Тульской губернии. Еще до родов ее матери приснилась белая птица с плотно смеженными веками. Сон оказался вещим — Матронушка родилась слепой. При крещении, когда ее опустили в купель, присутствующие почувствовали благоухание, даже священник был удивлен. Ее дом находился рядом с храмом Успения Божией Матери, в котором Матронушка буквально выросла: сначала ходила туда с родителями, а потом одна. Даром духовной прозорливости, чудотворения и исцеления она была отмечена с детства. Близкие заметили, что ей ведомы не только человеческие грехи, но и мысли, она чувствовала приближение опасности. К ее избе потянулись люди: приезжали даже издалека. После революции, не желая подводить своих братьев-коммунистов, она ушла из дома и в 1925 году перебралась в Москву. В эти годы гонений на Церковь начались ее скитания по родственникам и знакомым. Она всегда предчувствовала приход милиции и, так как жила без прописки, уезжала от приютивших ее людей, не доставляя им неприятностей. Времена были тяжелые, и она знала, чем могла бы грозить ее прописка людям, решившимся на это. Эта маленькая, слабая женщина, у которой в семнадцать лет еще и отнялись ноги, имела такую духовную силу, что помогала всем людям, приходившим к ней. После обращения к ней исцелялись от болезней, налаживалась семейная жизнь, люди находили работу, решались проблемы с жильем. Спасала она и алкоголиков, помогала справиться и с табачной зависимостью. Взамен матушка требовала одного — исповедовать православную веру и ходить в Церковь. Она молилась за всех. Умерла матушка Матронушка в 1952 году.
Эту историю — ее жизни — я прочитала потом. А тогда Наташа рассказала, как, узнав о своем диагнозе, она очень много плакала, каждый день и по многу раз. Кто-то из близких рассказал ей про Матронушку и про то, как, предвидя свою смерть, та завещала всегда приходить к ней и на могилу, приносить цветы, как живой, и просить о помощи, как просили при жизни. За этой помощью Наташа и ездила к Матронушке в Покровский монастырь. Я не знаю, о чем она просила и просила ли вообще, но, по ее словам, она больше ни разу не плакала. В палате она была, наверное, самым спокойным и безмятежным человеком, глядя на нее, казалось, что она лечится не в онкологической больнице с палатой на восемь коек, а в отдельном номере какого-нибудь санатория. Как-то раз, когда я сидела в коридоре с сыном, приехавшим навестить меня, она пробежала мимо нас в палату. У моего мальчика от удивления брови поползли кверху. Он спросил: «Кто это? Тоже пациентка? — и даже засмеялся, — Вы что, все тут так "носитесь"? Ничего себе больные». Я невольно сама улыбнулась. Действительно, стройная, подтянутая и улыбающаяся блондинка в спортивном костюме, живенько пробежавшая перед нами, совсем не походила на больного человека, перенесшего недавно сложную операцию и проходившего тяжелый курс облучения.
Отдельно хотелось бы написать еще об одной женщине. Она была ненамного старше меня.
Мы познакомились, разговорившись в приемном отделении при поступлении в больницу. Своей лаской и теплотой она не дала мне полностью уйти в горе и отчуждение. Я не могла оттолкнуть ее, такую милую, домашнюю и уютную. Хотя мы попали в разные палаты она, видимо, почувствовав мое состояние, старалась не оставлять меня одну. И если внимание посторонних людей меня утомляло и я пыталась всячески его избегать, то ей, как ни странно, разрешала выводить себя на прогулки, пыталась слушать, или, по крайней мере, делать вид, что слушаю ее, и невольно, незаметно для себя, стала заряжаться ее светлой теплотой. В итоге мой панцирь начал таять, и, приезжая домой на выходные, я с каждым разом становилась все мягче — не такой закостеневшей от боли и страха. И теперь, вспоминая эту больницу, я больше помню не палаты, врачей или свою тоску, а тебя, моя Наденька.
* * *
Как бы ни рассчитывали облучение, с тем, чтобы минимально травмировать организм, — он все равно страдал. Невозможно же убивать что-то в человеке, не задевая его самого. Падали показатели крови, появлялись слабость, тошнота, потеря аппетита. Поэтому на какое-то время человека выписывали домой, давая время прийти в себя и набраться сил. Чтобы не отравлять организм еще больше, мы старались избегать лекарств и восстанавливаться естественным путем — есть.
За всю свою жизнь я не ела так хорошо и вкусно, как тогда, во время лечения, и никогда в жизни у меня не было такого глобального отсутствия аппетита с тошнотой. Я каждый день выпивала литрами гранатовый и апельсиновый соки, ела нежнейшие филе курочки, рыбы, кальмаров в соусе, грецкие орехи, фрукты. А совет есть петрушку для поднятия лейкоцитов? Всю вторую половину лечения я провела с зеленым пучком в руках. Но жевала я все это вяло, без аппетита, а поглощение петрушки, по словам моей соседки, вообще навевало воспоминание о коровах, меланхолично пасущихся на лугу, хотя я себе в такие моменты больше напоминала кролика.
Несколько забавно выглядели и способы, которыми мы боролись с тошнотой. Они были просты, но довольно эффективны: соленый или маринованный огурчик и долька лимона. «Солененькое» даже вызвало у нас что-то похожее на аппетит. Я не удивилась бы, узнав, что у посетителей, не всегда бывших в курсе наших гастрономических тонкостей, видевших как кто-то самозабвенно хрустит огурцом или пьет взахлеб, прямо из банки, рассол, возникали подозрения, что на соседней койке сидит горькая пьяница.
Второй этап лечения я перенесла несколько хуже. Я вообще, по сравнению с другими, тяжелее переносила облучение, не знаю почему, может быть, какая-то индивидуальная непереносимость организма. К внешнему облучению добавилось внутреннее. В меня вставляли какую-то железку, и я лежала с ней по часу. Было больно. Кабинет, где это делали, был другой, не вызывающий никаких ассоциаций, и мне уже трудно было представлять себя летящей в космос. Я лежала, терпела, прислушивалась к щелчкам таймера, отсчитывавшего время, и уже не хихикала — было не до этого, — но каждый «тук-тук» представлялся мне маленьким молоточком, разбивавшим, уменьшавшим то страшное, что было у меня внутри.
После этих манипуляций у меня сильно падало давление и была такая слабость, что порой невозможно было дойти до столовой. На еду вообще не хотелось смотреть, а от огурцов уже болел живот. Спасибо моим родителям и сыну. Тогда я казалась себе самым несчастным человеком, так как за все время в больнице муж навестил меня только один раз. Из-за обиды и плохого самочувствия я не задумывалась о том, что родители ездили ко мне каждый день с полными сумками домашней еды и сидели около меня по полдня, отвлекая разговорами, ласково уговаривая поесть. Как часто в жизни, из-за каких-то обид и чего-то несущественного, мы порой пропускаем что-то важное и по-настоящему ценное — не видим. Ведь несмотря на то, что кого-то, в отличие от меня, навещали любящие мужья, — ни к кому не приезжали каждый день, никого не окружали такой заботой и не кормили такой вкуснятиной, как меня. Только благодаря заботе и помощи папы, мамы и сына, очередной анализ крови показал, по словам врачей, что пусть не все, но многие показатели были «неприлично» хорошими для моего состояния, что помогло дойти до конца облучения, не прибегая к помощи медикаментов.
А муж? Ну что можно сказать, я очень сильно нуждалась в его поддержке и любви, да, собственно говоря, и ждала-то в основном их от него одного. С первого дня моей болезни он сказал, что я нужна ему любая, и хотя глазами, умом я видела и понимала, что он не выдерживает, сдается, порой за грубостью скрывая страх и растерянность, но наперекор всему всем сердцем верила в его слова. Если человек хочет быть обманутым — он им будет. Разговорившись с медсестрой, я узнала от нее интересную неофициальную статистику. Проработав чуть ли не пятнадцать лет в таком отделении, она обратила внимание, что женщины в девяноста девяти случаях из ста не отступают от больного мужа, разделяя с ним все тяготы болезни. Мужчины же — половина: остальные не выдерживают, бросают. А тогда, несмотря на то, что второй курс физически я перенесла хуже, душою, благодаря людям, я несколько оттаяла и даже стала принимать какое-то участие в больничной жизни. Хотя какая там жизнь. К вечеру я, отлежавшись после очередной дозы, немного оживлялась и выползала на пролет лестничной клетки, где висел телефон, стояла кушетка и главное — собирались курильщики. Люди, несмотря на такое заболевание, продолжали «смолить». И хотя на стене висела огромная табличка с надписью, запрещающей курение, сердобольный персонал, понимая, что народ все равно будет ее игнорировать, поставил прямо под ней огромную урну с водой. Мы, наверное, являли собой странное зрелище. Осунувшиеся, бледные, те, у кого опухоль была видна на шее, лице или голове, еще и разрисованные расчетами, — и с дымящейся сигаретой. Когда утром приходили первые посетители, они с удивлением поглядывали на огромную урну, за ночь наполнившуюся окурками. В таком отделении урна с окурками, наверное, действительно смотрелась несколько дико. В моей семье кроме меня никто не курил. У меня все начиналось как баловство, а потом, в какой-то момент, я поняла, что не могу без сигареты, и в итоге — пятнадцатилетний стаж курильщицы и пятнадцатилетний стаж борьбы с курением. Тогда я и рада была бы бросить, но не могла — организм, привыкший к сигарете, так ее требовал, что при отказе от этой привычки отекали пальцы, тряслись руки, начинались бессонница и невроз. На стенания мамы, когда же я брошу курить, мрачно шутила: «Никогда. И на похоронах не забудьте положить мне пару блоков сигарет». Что называется — дошутилась, еще немного, и это могло бы оказаться правдой. Но позже болезнь все-таки заставила меня отказаться от сигареты, и я этому очень рада: без нее, по-моему, — что жить, что болеть, — легче. Тогда же она была моим «дружочком», пусть плохой, но компанией, большим обманом, дающим ложное ощущение спокойствия или занятости.
Те вечера я вспоминаю с теплотой, но одновременно с большой грустью. Мне жалко себя, тогдашнюю. Как часто я стояла ночью на огромном лестничном пролете, упершись лбом в холодное стекло, забыв про дымящуюся в руке сигарету и ощущая, что меня и город за окном разделяет нечто большее, чем тонкая, хрупкая перегородка. И разбить это нечто было не в моих силах.
* * *
По окончании курса облучения меня выписали «в жизнь». Мне не на что было опереться. Я приняла неизбежность происходившего, продолжая жить странной, потерявшей сразу весь смысл жизнью, чувствуя себя ходячим мертвецом. Моя подруга детства, поработавшая и операционной сестрой в хирургическом, и на скорой помощи — в общем, насмотревшаяся всякого, спустя несколько лет призналась, что тогда боялась при разговоре смотреть мне в глаза, настолько страшно они были наполнены нездешней пустотой.
Мои близкие не оставляли надежды что-то изменить и продолжали показывать меня врачам. На одном таком приеме и случилось нечто, повернувшее мою жизнь и ход моей болезни совсем в другую сторону.
Это произошло в одной известной больнице, находившейся на самом краю Москвы. Я сидела, истомившаяся ожиданием приема, в коридоре отделения, у кабинета очередного медицинского светилы. Невольно прислушиваясь к происходившему в отделении, я поняла, что мы сидим недалеко от операционной, и равномерный писк, раздававшийся в коридоре, был звуком какого-то аппарата, работавшего в ней. Туда почему-то часто заходили на непродолжительное время разные врачи. Из разговора очередной «троицы» в белых халатах я поняла, что в ходе достаточно простой операции, по-моему, на желудке, нашли опухоль, да такую, что посмотреть на нее приходили из других отделений. Человек был не то чтобы неоперабелен, а вообще просто обречен. Видимо, от подслушанного у меня так изменилось лицо, что они, бросив очередной взгляд в мою сторону, отошли подальше. Но мне этого было достаточно. Всем своим существом я осознала, что в нескольких метрах от меня под наркозом находится человек, за время, прошедшее с начала операции, ставший живым мертвецом. Он был приговорен. Я не видела его, знала только, что это мужчина, но чувствовала себя так, как если бы он умер у меня на глазах.
Когда же мы, наконец, показавшись очередному консилиуму, вышли с мамой на улицу, я поняла, что вернуться домой и жить во всем этом дальше не смогу. Приговор, непроизвольно вынесенный чуть ли не у меня на глазах другому человеку, окончательно сломил меня. Я уже не думала ни о каком лечении, единственное, чего мне хотелось, — избавиться от отчаяния и страха, навсегда, казалось, поселившихся в мой душе. Я тонула в них. Несмотря на то, что было начало лета и тепло, меня бил озноб. Что же делать? Не видя вокруг ничего, что реально могло бы мне помочь, я была готова всем сердцем поверить в чудо. И я поехала за ним.
Стоя на автобусной остановке, я вспомнила Наташину историю и пересказала ее маме. Оказалось, та тоже когда-то слышала про Матронушку. Кто-то из ее однокурсников даже жил в доме, где Матронушку какое-то время прятали от властей, и даже получил от нее в подарок маленькую вазочку. Я была очень слабой после облучения, меня сильно утомляла дорога, и у мамы имелись большие сомнения по поводу моих сил, тем более что мы не знали точного адреса, — но я была непоколебима. Как мы ехали, я запомнила плохо, в метро меня подташнивало, кружилась голова, но я была готова умереть в дороге, но не повернуть обратно. На Таганке нам показали троллейбус, идущий до Покровского монастыря, и я вздохнула с облегчением, когда через стекло увидела приближающуюся стену из красного кирпича и вырастающие за ней купола храма. Заметив «бабулю», продававшую цветы, мы купили в подарок Матронушке букетик гвоздик. Сказка начала обретать реальные очертания. Но, подойдя к воротам монастыря, я опять приуныла: от них начиналась и шла через всю территорию огромная, плотная очередь. Она поднималась по ступенькам храма, и я не видела, где она заканчивалась, но догадаться было нетрудно — не у меня одной были проблемы.
Мы заняли очередь, но я не была уверена, что смогу ее отстоять, и решила пойти хотя бы посмотреть, как все это выглядит.
В церкви было много народу, мама шепотом разговорилась с девушкой, протиравшей подсвечник, а я постаралась подобраться поближе к тому месту, где что-то серебрилось. Это и была Матронушка, вернее, посеребренная рака с ее мощами. Она вся была завалена цветами и там же, в нескольких метрах от нее, кончалась очередь. Я, чуть ли не открыв рот, завороженно смотрела, как люди по одному подходили к этой серебристой красоте, покоившейся в цветах, несколько мгновений стояли, а потом, поцеловав раку, отходили. Чуть дальше, около небольшого холмика из цветов, сидела монахиня, и каждому, приложившемуся к Матронушке, дарила несколько штук. Мне стало грустно, я чувствовала усталость и понимала, как мало у меня шансов преодолеть эти несколько метров.
Ко мне подошли мама и девушка, с которой та о чем-то шепталась. Девушка крепко взяла меня за локоть и потянула за собой, что-то негромко говоря людям, я расслышала одно слово: болящая. Все расступались перед нами, еще несколько мгновений, и я склонилась над чудом. Всем лицом: щекой, губами, глазами—я ощущала это серебристое сияние, мир за моей спиной затих. Что произошло во мне в те секунды, когда я стояла, склонившись над ракой? Болезнь, усталость отошли куда-то в сторону. Вперед вышло нечто, чего я совсем не ожидала от себя. Мои губы выдохнули одно слово — Веры. Наверное, это сказала моя душа. Внутри стало спокойно и не было сожаления о чем-то другом.
Я отдала монахине свои цветы с теплыми от моих ладоней стеблями, а она протянула мне розу и две головки гвоздичек. Тогда я еще не понимала, что это первое в моей жизни благословение и первая святыня. До сих пор не знаю точно, действительно ли Матронушка завещала что-то о цветах. Когда я позже читала ее жизнеописание, ничего об этом не встретила. Но большинство людей действительно приходят к ней с цветами, а полученные от нее в подарок не выбрасывают, а заваривают как чай или делают, как научили меня: я высушила все лепесточки и зашила их в мешочек из ткани. Он совсем маленький, и его можно везде носить с собой. Уже несколько лет прошло с того дня, но до сих пор, когда я достаю эту маленькую подушечку, сохранившую слабый аромат цветов, я не глазами, а сердцем вижу серебристый свет и чувствую теплоту того дня.
* * *
Выйдя из храма, я задумалась о том, что же могло привести меня туда? Когда-то, почти двадцать лет назад, я первый раз побывала за границей. Меня, советскую девочку, воспитанную в стране, где духовность человеку заменила идеология, поразило, что все люди, окружавшие меня, — верующие. И это — как нечто само собой разумеющееся, скорее правило, чем исключение. В стране, где я жила, присутствовали чуть ли не все конфессии. Мусульмане шииты, сунниты, христиане марониты, протестанты, евреи хасиды... Они все верили в Бога! И живя там, в библейских местах, не задуматься о Нем, было просто невозможно.
Мне было интересно, и я не раз разговаривала на тему веры с людьми разного возраста и положения. Но больше всего меня поразило короткое определение, которое дала одна молоденькая мусульманка. У нее были улыбающиеся глаза, легкое платье и тоненькие каблучки. Несмотря на свой скудный словарный запас, я пыталась добиться от нее объяснения, что же такое Аллах. Она, показав пальчиком на розетку, сказала: «Ты не видишь ту силу, которая зажигает лампочку, но знаешь, что она там. Так же и Бог. Это сила, которую мы не видим, но она есть», — и, на минутку задумавшись, добавила: «Только не надо забывать, что, если копаться в розетке руками, может и током ударить». Эта простота и безыскусность веры, затронула какие-то струны в моей душе.
Изящная красавица невольно дала мне понять еще одно: моя душа — христианка. Эта девочка выросла в той вере, в которой ее воспитали. Я же в детстве была октябренком, пионером. Моя душа росла на голых лозунгах: «Мы говорим партия, подразумеваем — Ленин!», «Жить по-ленински», «Слава КПСС!». Все, что касалось религии, находилось под официальным запретом. Поэтому для веры я была чистым листом. И, впервые начав задумываться о Боге, несмотря на разнообразие представленных в этой стране религий, я потянулась к Православию. Когда пришло время вернуться домой, в Москву, то церковь, в которой крестили меня и моего маленького сынишку, была православная. Если бы я только могла представить, куда приведут меня много лет спустя эти шаги.
* * *
Я стояла, отогреваясь на солнышке, и слушала рассказ нашей новой знакомой. Оказывается, в Москву с Афона в августе 1995 года был привезен список с иконы Божией Матери «Всецарица». Эта икона особо помогала людям, заболевшим онкологией. Первый молебен перед «Всецарицей» совершили в часовне Детского онкологического центра. В дальнейшем она побывала в гостях у нескольких храмов. В декабре ее привезли в храм Всех святых, что в Красном селе на Красносельской. Из-за большого потока людей, приходивших к ней, приняли решение оставить ее в этом храме, и она заняла достойное место среди находящихся в Москве особо чтимых чудотворных икон Божией Матери как, например, «Нечаянная радость» или «Утоли моя печали». А в 2004 году Святейшим Патриархом было принято решение об установлении 31 августа празднования в ее честь.
Тогда я не все поняла в этом рассказе. Не зная ни одной молитвы и заходя в церковь, как многие, скорее для того, чтобы поставить свечку и что-то пробормотать, многое ли я могла понять? Но главное для себя на тот момент я уяснила, и как вы думаете, куда я поехала дальше? Откуда только взялись силы, чтобы целый день, практически без еды, ездить из одного конца Москвы в другой? Я тогда была настолько слаба, что, когда заходила в магазин, у меня начинала кружиться голова, что уж говорить о метро. Но силы были — и даже что-то большее: с того момента, как я узнала о диагнозе, у меня на душе впервые было спокойно и светло.
Наверное, в глубине души я ждала, что, приехав в Красное село, получу что-нибудь необыкновенное. Но, видимо, в тот день с меня было достаточно. Если что-то и произошло, то это скорее расстроило меня. Иконы не было. Ее увезли на замену оклада. Я даже в какой-то момент почувствовала себя обманутой. Видимо, поэтому я в утешение получила конфетку. Честное слово! Священник в храме, пробираясь к выходу через толпу собравшихся около него людей, раздавал всем конфеты. Хотя у меня не было никакого желания подойти к нему, батюшка, чуть изменив маршрут, оказался рядом со мной, глазевшей на все это. Он опустил руку в пакетик, — и раз, — я оказалась обладательницей очередной конфетки и какого-то коржика. На мгновение я почувствовала себя маленькой девочкой, а затем... Да простит меня батюшка, которого я сейчас очень люблю и уважаю, но в тот момент я подумала: «Вот, чудак-то». Удивление мое было таким сильным, что не оставило места для досады. Я поехала домой в хорошем, легком настроении, жуя конфету, шурша оберткой от коржика и вспоминая, как видно, очень доброго батюшку.
Проснувшись на другой день, я почувствовала: что-то не так. Я никак не могла определить, чем предыдущие дни отличались от наступившего. Единственное, что я понимала отчетливо, — у меня появилось незавершенное дело. Я просто должна была увидеть «Всецарицу». Когда я заболела, кто-то мне ее подарил, и дома была маленькая красивая иконка, — но меня тянуло в храм. Я стала, насколько хватало времени и сил, бывать там, но икону все не привозили.
В храме я каждый раз встречала того удивительного священника. Если я попадалась ему на глаза, он очень по-доброму смотрел, и меня уже саму тянуло подойти к нему, но я не знала, как разговаривают со священниками, и поэтому стеснялась. И в один действительно прекрасный день он сам протянул мне руку, вывел из толпы и стал расспрашивать. Под его ласковым взглядом я расхрабрилась и рассказала ему все, а что недосказала, по-моему, он понял сам.
Позже я узнала, какие занятые люди — священники, а уж мой-то батюшка и подавно. Кроме службы в храме он преподает в детской воскресной школе, в семинарии, выступает на радио, телевидении, пишет. То, что я попадала на него в каждый свой приезд, — просто чудо.
Теперь я не верю ни в какие случайности: ничего не бывает просто так. После Матро-нушки меня стало тянуть в храмы, но, не зная ни одной молитвы, я не понимала происходившего там. Помогла «Всецарица». Если бы она была на месте, появлялась бы я в храме так часто? Но ее не было, а я не отступала в свом намерении прийти к ней и в награду получила поддержку священника, который помог открыть мне чудесный мир, где можно любить и быть любимой, прощать и быть прощеной, где можно быть просто счастливой несмотря ни на что.
Я, наконец, смогла разобраться, что же изменилось во мне: не было того отчаяния и животного страха. Конечно, я не перестала бояться смерти, ее не боится только глупый, но страх стал каким-то естественным. Я приняла свою болезнь, она больше не была для меня бессмысленной. Все мы смертны, но, в отличие от других, я реально смогла увидеть свой конец и понять, что не так важно, когда он придет, завтра или через десять лет, хотя, конечно, десять лет было бы предпочтительнее, главное — было бы время, чтобы что-то понять и исправить. Вера учит нас, что человеку не посылается больше того, чем он может вынести, а раз так, значит, и у меня будут силы нести свой крест, и можно пройти через все — с Богом.
Конечно, все это пришло не за один день, но начало было положено, и я не просто пошла, а побежала по открывшейся передо мной дороге и то, на что у других ушли бы годы, мне, благодаря болезни, далось в очень короткое время.
Я дождалась своей иконы. От нее веяло золотом и пурпуром, я дотронулась до нее, и для меня, наконец, наступило лето.
* * *
Это лето было просто наполнено чудесами. Об одном из них, произошедшем у «целительницы», мне особенно хотелось бы рассказать.
Еще когда я потерянно лежала на облучении, меня в один из выходных отвезли к женщине, якобы имеющей силы лечить мою болезнь. Вообще-то я шарахалась от подобного. Меня, например, и до болезни поражали всякие предложения о приворотах и отворотах. «За один день верну любимого и покончу с соперницей» — бред какой-то! Человеческие отношения — такие сложные и одновременно такие хрупкие. Даже без всяких «приворотов» им можно повредить простым советом, что уж говорить о чем-то более сложном и непонятном? Даже если допустить, что действительно можно повлиять на отношения посредством каких-то заговоров, то все равно это противоестественно, люди после такого до конца жизни не будут уже просто людьми. Это как прививка, например, ветки от дуба к яблоне — были такие опыты в селекции, и даже успешные. Только после этого яблоня уже не была яблоней, а дуб — дубом. Они становились гибридами. Разве может выйти что-то путное из гибрида человека? И на человеческой ветке яблони, привитой к дубу, скорее всего, вырастут одни «огрызки», если она вообще не засохнет.
Около больницы, на стенах соседних домов, было много объявлений, суливших исцеление. Одно мне особенно запомнилось. Оно было большим, черно-белым, с изображением какого-то страшного лица и — большими буквами: «Стопроцентное исцеление». Я всегда внутренне ежилась от неприятного чувства, появлявшегося во мне, когда видела это объявление и особенно изображенное на нем лицо. Видимо, хотели изобразить Лик Спасителя, но получилось нечто непонятное, вызывавшее дрожь. Я тогда еще думала: до чего же надо дойти, чтобы позвонить по написанным под этим безобразием номерам телефонов?
В случае с «целительницей» меня подкупило то, что она не давала никаких объявлений, люди сами передавали «заветный адресок», и не было установленных расценок — кто что даст. Если бы была какая-то цена, я, скорее всего, сразу потеряла бы к этому интерес, полагая, что, если человеку и дается какой-то дар, то дается он бесплатно, и брать деньги за его использование нельзя. Кроме того, она не занималась никакими приворотами или сглазами, а вроде только лечила.
Повез меня мой дядя. Она жила в небольшом городе, примерно в ста километрах от Москвы. Приехав туда, мы без труда нашли нужную улицу и большой дом из красного кирпича. Для приезжавших был отдельный вход с маленькой прихожей, где оставляли обувь и верхнюю одежду. За прихожей находилась большая комната с лавками, на которых сидело человек десять в ожидании очереди. На стенах висели иконы, что меня несколько успокоило, так как, несмотря на то, что в окружающем не было ничего страшного, на душе у меня было тяжело. Я разговорилась с людьми из очереди. Она действительно лечила! Передо мной были пациенты с довольно серьезными диагнозами, у которых имелись реальные положительные сдвиги в болезни. Я совсем успокоилась и, когда подошла моя очередь, довольно спокойно вошла в следующую комнату. «Целительница» была довольно молодой и внешне не очень приятной женщиной. С острым носом, темными глазами и хищным выражением лица, она не вызывала положительных ассоциаций.
Выслушав меня и поразмыслив о чем-то, глядя на меня, она согласилась лечить, но только после того, как закончится мой курс облучения. Мы договорились, что я приеду со всеми медицинскими выписками месяца через два.
За эти два месяца я сильно изменилась, пришла к Богу, а перед Ним вера во всяких целителей растаяла без следа. Но в моем дяде за это время ничего не изменилось, и он, искренне желая мне добра, приехал за мной, чтобы повторно отвезти к знахарке. Я уже ничего от нее не хотела, не веря, что человеку по силам «забрать» такую болезнь, но, чтобы не обидеть дядю, согласилась поехать, твердо решив про себя, что, даже если она посулит мне еще сто лет жизни, — откажусь от ее помощи.
Всю дорогу я проерзала на сиденье, пытаясь подобрать слова, чтобы повежливее отказаться, но так ничего и не придумала. Мне не хотелось скандала, который, наверное, получился бы, скажи я прямо, что думаю по поводу ее лечения. Очутившись в знакомой комнате, я поздоровалась и села напротив нее, протянув листки выписки. Мы молчали, задумчиво разглядывая друг друга. У нее был очень неприятный, колючий взгляд, такой взгляд я замечала у кошек. Вдруг, подскочив на стуле, она сунула, вернее, швырнула мне в лицо выписки и с криком: «Я не буду тебя лечить!» — сорвалась в другую комнату. От неожиданности я чуть не свалилась со стула. Никогда в жизни мне не приходилось так удивляться. Я как-то растерялась. По моему сценарию это меня должны были выгнать взашей. Она опять, уже из другой комнаты, закричала: «Я не буду тебя лечить!» Следующая фраза расставила все по своим местам: «Иди к своим священникам!» Как же легко стало у меня на душе! Подхватив с пола свои бумажки и нервно хихикая, я вылетела из комнаты, физически ощущая, как мимо меня пронеслось сейчас что-то большое и страшное .
Раз у человека есть сила лечить такие болезни и она не от Бога, то от кого тогда? Ответ очевиден. Это — вечное зло, притворяющееся благом. Если бы у нее и получилось «забрать» болезнь, кто знает, какую беду она могла дать взамен мне или моим близким. Но передо мной она оказалась бессильна. Я была с Богом. Для меня вера перестала быть просто обрядами, я жила ею, сроднившись, как с живым организмом.
Когда я приехала во второй раз, она, я думаю, увидела во мне другого человека, совсем непохожего на приезжавшего раньше. Я уже сознательно ходила в церковь на службы, причащалась и исповедовалась. В сумке у меня всегда лежали маленький молитвослов с вложенным между страниц, высушенным лепестком от Матронушки и пластиковая бутылочка со святой водой. Наверное, произошло то, о чем написано в Ветхом Завете: Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих (Пс. 90, 9-11).
Потом, в больнице, я встречала людей, лечившихся у подобных врачевателей. Одну, через год такого лечения, привезли с метастазами во все кости и органы. Мне было очень жалко ее, и, сидя около нее в больнице, я содрогалась от мысли, что могла бы выбрать подобный путь.
С изменениями, произошедшими во мне, столкнулась не только «целительница». В хорошем смысле они коснулись и моих близких.
* * *
Особенно это коснулось моего мужа. Наши жизни были тесно переплетены. Мы даже вместе работали и хотя, конечно, не сталкивались каждую минуту, но получалось, были рядом все двадцать четыре часа в сутки. Мои знакомые удивлялись, как мы не устаем друг от друга, для нас же такое положение было естественным. Он умный, добрый, но, как и многие люди, имел свои слабости. У него были проблемы с алкоголем. Когда алкоголь брал над ним верх, он мог превратиться в неуправляемое существо, находившееся во власти каких-то темных инстинктов. Из-за этого, хотя я не была любительницей экстрима, моя жизнь с ним напоминала катание на американских горках. Вжик, и я возношусь к солнышку и свету, вжик, и я лечу вниз в пропасть и кошмар. Наша жизнь для тех, кто не знал нас близко, выглядела, наверное, размеренной и однообразной. На самом деле, у нас иногда бушевали мексиканские страсти, способные затмить любой сериал. Но как бы то ни было, я любила его, а он, наверное, меня. Когда я заболела, он держался, хотя мне было видно, как ему страшно и как хочется спрятаться в алкоголе.
Я до сих пор так и не поняла его отношения к вере. С одной стороны, он все отрицал, утверждая, что в этом ничего нет, а с другой, — покупал куличи и краску для яиц на Пасху, подарил мне на день рождения золотой образок Пресвятой Богородицы (он и сейчас на мне), был крещеным и не расставался с крестиком. Он не мешал мне ходить в церковь и вечером молча слушал, как я молюсь перед сном. Мне подарили масло, освященное на молебне перед «Всецарицей», и как-то вечером, когда я мазала болевшие места, попросил помазать ему плечо. Встретив мой удивленный взгляд, объяснил, что какой-то прыщик болит и мешает. После этого я каждый вечер мазала ему лоб, так как у него часто болела голова. В этом весь Андрюша, ни в одном человеке я больше не встречала такого удивительного переплетения светлого и темного, веры и неверия.
Как бы то ни было, он понял, что мне тяжело с такой болезнью жить с ним невенчанной. У него был выбор, я не неволила его, но он решил пойти со мной под венец.
Мы приехали в Красное село, батюшка, предварительно поговорив о чем-то с Андреем, назначил нам венчание на утро следующего дня. Мы испугались, что не успеем все подготовить. Купить венчальные кольца, ручник и свечи можно было при храме, а вот насчет одежды... Но батюшка разрешил наши сомнения, сказав, что с такими намерениями мы и в том, что на нас, для Бога красивы. Небольшая заминка все-таки возникла.
Андрюша закокетничал и захотел не простое золотое кольцо с надписью на церковнославянском, а кольцо с червлением. Нам пришлось побывать в пяти церковных лавках и одном ювелирном магазине, потратив на это оставшуюся часть дня. Не найдя ничего похожего, мы решили утром купить то кольцо, которое видели в лавке при храме.
Утро было чудесным. Из гостей, кроме родственников, я пригласила девушку, с которой познакомилась, когда ездила в храм. Через нее опять пришло чудо. Оленька, хотя сама была не богата, решила подарить мне платье. Настоящее платье невесты. Даже если бы у нас было время и деньги, чтобы подготовиться, вряд ли я смогла бы купить себе такое роскошное. Оно было цвета кремовой розы, с верхом из кружев и пышной юбкой на обручах из китового уса. Таким я в детстве представляла себе платье Золушки, ехавшей на бал.
К платью прилагалась длиннющая фата, похожая на облако, и туфли с серебряными пряжками. Я не могла поверить своим глазам. То, в чем я когда-то ходила в загс, перед этим великолепием казалось линялой тряпочкой. Спасибо тебе, Оленька, за твое доброе сердечко. Я не знала, что ждало нас в будущем, но тогда почувствовала — это был наш день. Платье село как влитое, туфли были по ноге, фата нежно обняла меня, и я стала похожа на принцессу из сказки. Андрей же, чьи бежевые брюки и рубашка оказались в тон моему платью, вполне сходил за принца. Но разве могло быть по-другому? Ведь слева от нас, стоявших в центре храма, сияла «Всецарица». Для меня было счастьем венчаться в ее присутствии.
После Троицы весь храм был украшен ветками берез, а пол был устлан травой, с желтыми вкраплениями цветов. В воздухе витал аромат свежести, какой бывает только в лесу, летним утром. На нас одели голубые с золотом венцы, и мы застыли, вслушиваясь в произносимые священником молитвы, которыми много поколений соединяют перед Господом людские сердца. Мы стали мужем и женой.
Вечером Андрей позвал меня помочь прочитать надпись на церковнославянском, выгравированную на его кольце. Когда мы покупали кольца, то не вчитывались, полагая, что, кроме «Спаси и сохрани», ничего другого не пишут, но когда он протянул свое кольцо мне, там было: «Боже, помилуй меня грешного». У меня кольнуло сердце. Я уже говорила, что верю в то, что ничего не бывает просто так. Это было первое кольцо, которое он примерял, и хотя мы потом обегали пол Москвы, ища похожее, но побогаче, — ничего не нашли: то не было подходящего размера, то колец, а в одном месте вообще было закрыто. Так что это кольцо и эта надпись ждали именно его. Я думаю, это было предостережением. Но тогда мы были счастливы и ни о чем плохом не думалось. Для меня началась новая жизнь.
* * *
У нас даже получилось что-то вроде медового месяца. После больничного, длившегося несколько месяцев, нам обоим на работе дали отпуск. Мы провели его на даче. Все было замечательно, хотя там я впервые начала сталкиваться с бытовыми ограничениями, не позволявшими мне вести обычный образ жизни. Например, поездка с друзьями на речку. Лето было жарким, и мы решили на машинах поехать поплавать и позагорать. Я бросилась собирать вещи, но, укладывая купальник, остановилась и растерянно присела. Я уже получила дозу лучей в больнице, и перспектива получить еще, пусть даже солнечных, мне не понравилась. Мысли о купании тоже меня не вдохновляли. После лечения у меня побаливали ноги. Учитывая, что я и раньше не блистала способностями пловца, от перспективы поплавать тоже пришлось отказаться. Я посидела, погрустила, затем вытащила из сумки купальник и полезла искать мамину панаму с широкими полями.
Итогом моих сборов был оглушительный успех на пляже. Пройти мимо и не обратить внимания было невозможно. На берегу, в тени одинокой ивы, на голубом в розовый цветочек раскладном полукресле восседала я. Позади возвышался воткнутый в песок огромный синий зонт с логотипом известного магазина. Я была одета в длинный пестрый сарафан, поверх которого красовалась мужская рубашка в клеточку с длинным рукавом. Завершали наряд цветастая панама и старые мужские кроссовки, которые я откопала на даче. Отдельный штрих к пляжной экзотике добавляли две маленькие собачки, привязанные к ножкам моего стула. Они так рвались к хозяевам, плещущимся в воде, что я иногда боялась, как бы они не утащили меня в воду. Утихомиривая их, я наклонялась, и из меня постоянно выпадали очки, ключи и пачки сигарет, отданные мне на хранение.
Конечно, первый раз, выходя на солнышко, я с перепуга переборщила. В дальнейшем, выбираясь на природу, я, конечно, хоть и старалась наслаждаться ею, находилась в основном в тени и одевалась обычно в футболку и шорты и с удовольствием лежала на траве или песочке.
Тогда же, я сначала чувствовала какую-то неловкость, но потом представила себя со стороны и мне стало смешно. Через некоторое время я совсем успокоилась, так как наши, накупавшись, всей компанией разлеглись загорать вокруг меня. Мы болтали, смеялись, муж просил посмотреть поцарапанный палец, а кто-то — поправить на спине купальник. Я не чувствовала себя изгоем, и взгляды, которые бросал на меня украдкой пляжный люд, были просто чуть удивленными, с долей интереса, и не более. Я сняла кроссовки, зашла в воду по щиколотку и стояла до тех пор, пока не прочувствовала ее холодок и свежесть. У меня за спиной звонко пересмеивались друзья, среди их голосов я различала голос мужа. Я любовалась красотой наступавшего летнего вечера, вдыхала воздух, напоенный ароматом воды, и понимала, что, несмотря ни на что, я абсолютно счастлива.
Этот месяц пролетел как один день. Днем я сидела в шезлонге в тени яблонь и читала Библию и Псалтирь. Многое было непонятно, но отложить не получалось, меня тянуло к этим книгам. И я читала и читала, поражаясь красоте и силе фраз, смысл которых мне удавалось понять. Вечером мы зажигали костер перед домом и сидели до глубокой ночи, потушив же его и заглянув в глубину звездного неба, шли спать. Ох, как же сладко спится, когда тебя окружают деревянные, а не бетонные стены.
Отпуск, к сожалению, подходил к концу, и надо было собираться в Москву.
* * *
По приезде в Москву стали происходить события, до сих пор вызывающие во мне чувство изумления. Я не прикладывала практически никаких усилий к произошедшему в дальнейшем. Я только молилась и шла туда, где открывались двери.
Началось с того, что моя подруга по своей инициативе записала меня на прием к врачу в известнейший онкологический Центр, попасть в который мы даже и не надеялись из-за расценок. Расценки, как оказалось, были нормальными, в смысле — реальными. Меня же все равно одолевали приступы скупердяйства, так как, находившись по врачам, я думала, что вряд ли где-нибудь мне смогут сказать что-то новое и скорее эта затея будет пустой тратой времени и денег. Но все-таки я пошла, больше из-за того, чтобы не обидеть человека, искренне пытавшегося мне помочь.
Итогом всего этого было то, что мой случай заинтересовал зашедшую во время приема с каким-то своим вопросом хирурга, оперирующую как раз по моему профилю. Она решила осмотреть меня в своем отделении и повела за собой. По дороге я крутила головой направо и налево, разглядывая огромный Центр. Там были магазины, аптеки, даже кафе и ресторан. И очень много людей. Он казался государством в государстве, живущим какой-то своей жизнью, наверное, немного страшной, если вспомнить профиль этого гиганта.
Результаты обследования, полученные через несколько дней, были неутешительными. Облучение не помогло, и нашли нехорошие клетки. Химиотерапия в моем случае была бесполезной, а та доза лучей, которую я получила, так сильно изменила внутренние ткани, что прооперировать меня было практически невозможно, да что там, операция и раньше не была мне показана.
Я сидела в кабинете моего хирурга и пыталась понять — охватывает меня опять ужас или нет. Разобраться в этом я так и не успела, меня ошарашили следующим — приняли решение рискнуть и пойти на операцию. Дело было за согласием профессора, заведующего отделением. К моему удивлению, я не находила внутри себя ни страха, ни отчаяния. Я сидела расстроенная, но не более, и пыталась разобраться в нечто обнаруженном внутри себя. Это был отблеск серебристо-золотого пурпура, несший в себе умиротворение и покой. И я вдруг поняла, что бояться не надо, что бы ни произошло в дальнейшем, все будет так, как надо и как лучше для меня. Видно, я так расслабилась в этом необычном состоянии покоя, что на осмотре профессора прозевала главный вопрос: «Что будем делать, анализы-то не очень?
Нужна операция». Я скосила глаза на него, на смотровой кабинет с разложенными вокруг меня «железками» и растерянно захлопала глазами, пытаясь понять, каким же должен быть правильный ответ. Мне и тут пришла помощь: в очередной раз за эти несколько дней все устроилось помимо меня. Стоявшая рядом моя хирург ответила: «Да, она согласна».
Сколько месяцев мы бились за операцию или искали что-нибудь, что могло бы мне помочь. Но все наши попытки ни к чему не приводили. Когда же я смирилась и приняла все как есть, положившись на волю Создателя, события стали развиваться с такой скоростью, что я даже не всегда успевала до конца понять свое отношение к происходившему. Хотя, наверное, для меня это было во благо: так я не успевала вмешаться, намудрить и помешать происходившему и в итоге получила желаемое — операцию.
Я была очень спокойна. День был назначен. До операции оставалось две недели.
* * *
Мне совсем не было страшно, только иногда становилось грустно при мысли, что это, может быть, мои последние дни среди близких.
Однако события последних месяцев, насыщенных чудесными совпадениями и результатами, вселяли надежду, что все пройдет хорошо. И сколько бы шансов у меня ни было, они все будут моими. Папа потом рассказал, что когда меня увозили на операцию, я улыбалась.
Операция прошла успешно. Она была уникальной, ей практически не было аналогов не только в России но и во всем мире. После такой большой дозы облучения не оперируют, и я до конца жизни буду благодарна хирургам, не побоявшимся взяться за меня.
Но доза дала о себе знать, и через месяц пошли лучевые осложнения. Операция убрала одну беду, но непроизвольно спровоцировала другую. У меня внутри образовался большой лучевой ожог. Мне пришлось еще полтора года бороться за свою жизнь. Первые месяцы было очень больно, настолько, что муж не вынес моих мучений, запил и ушел.
Я не держу обиды на него. Позже я с удивлением поняла, что справиться с ненавистью и обидой оказывается труднее, чем с болезнью. Ни одна болезнь не может причинить столько боли, сколько может принести один человек другому, и иногда, чтобы простить, сил надо больше, чем на саму болезнь. Но у меня это получилось, мне даже стало его жалко. Кому хотелось бы жить, зная, что бросил умирать близкого человека. Помогли же мне, находя врачей, доставая лекарства и средства, абсолютно посторонние люди. Как странно мне сейчас писать про них это слово — посторонние. Я очень люблю вас, Нелли Николаевна и Володя.
В общей сложности мне пришлось провести в больницах около десяти месяцев, большую часть в радиологическом центре, находившемся в ста километрах от Москвы. Врачам удалось повторно спасти мою жизнь и справиться с осложнениями, а у меня хватило сил перенести еще одну сложнейшую операцию. Может, я не всегда была на высоте, и мне случалось плакать и роптать, но все-таки я прошла через все это.
Что касается моих сил... Я до сих пор удивляюсь, как их хватило на все, и твердо уверена, что только вера утешила меня и помогла мне все перенести.
В самые тяжелые моменты, а их было достаточно много, я постоянно вспоминала одно место из Нового Завета, поразившее меня и разрушившее мое представление о Боге как о существе, невозмутимо взирающем на наши страдания. Это — последняя ночь Спасителя перед распятием, которую он провел в Гефсиманском саду. Он знал, через что ему предстоит пройти, и ему было тяжко, тяжко до кровавого пота. Он просил своих учеников побыть с ним, говоря: Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь (Мф. 26, 38, Мк. 14, 34). И молился, прося Отца Свого, говоря: Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня, — добавляя со смирением: но не чего Я хочу, а чего Ты (Мк. 14, 36).
Сыну Божию было ведомо, что такое страдания, и Он по-человечески страшился предстоящего. Но Он также знал, как велики Любовь и Сила Отца. Чего же ждать от обыкновенного грешного человека, у которого не только плоть бывает немощна, но и дух (Мк. 14, 38)? Этот момент помог мне понять: что бы ни происходило, не надо ничего бояться, даже своего страха. Мы слабы, но если всего себя вверить воле Создателя, то никогда не будешь оставлен. И когда мне приходилось ждать очередной операции или проваливаться в боль, я вспоминала это место и повторяла: «Господи, пронеси чашу сию мимо меня, но только если будет на то воля Твоя». И, ложась на операционный стол, где руки для капельниц раскладывают в стороны как на кресте, я, перед тем как погрузиться в наркоз, говорила: «Господи, видишь, я перед Тобой. И да будет воля Твоя во всем».
После всех операций я стала инвалидом первой группы, дальше уже некуда. Когда папа приехал с историей моей болезни в одно медицинское учреждение, там спросили: «А она вообще-то ходит?» Хожу, еще как, и даже работаю.
Конечно, со своей инвалидностью, может, я в чем-то и потеряла. Мне теперь, например, никогда не прыгнуть с парашютом, не подняться в горы, не попасть в фотомодели и не искупаться в речке. Мне тяжело бегать, и я быстро устаю, но так ли важно для меня все это? По-моему, я приобрела гораздо больше, чем потеряла. Никогда раньше я не умела так радоваться каждому наступающему дню. Никогда не испытывала радости от того, что просто ощущаю под ногами твердую землю или мягкость травы. Не замечала, как упоительно ароматен воздух, даже в самой большой дорожной пробке, и какое счастье просто просыпаться каждое утро. Я научилась видеть в каждом человеке что-то хорошее.
Как же мне теперь жалко людей, которые замечают в других и вокруг только плохое. Какой же жалкий и страшный мир их окружает, ведь там, вокруг, в основном — негодяи и глупцы. И как же легко жить в мире в окружении хороших людей, а то, что каждый может оступиться, — так святыми не рождаются, святыми становятся.
Всю оставшуюся жизнь я буду стараться стать лучше и чище, буду учиться любить людей и учиться с благодарностью и со смирением принимать все, посылаемое мне. Я продолжаю верить, что ничего не бывает просто так, что не бывает простых совпадений. И хочется думать, что хоть один мой грех да искупился теми муками, которые я перенесла в болезни. Если это так, то я благодарна за нее.
Сегодня, каждый раз, когда я еду ко «Всецарице», моя душа звенит и поет от радости. И иногда мне кажется, что только благодаря тому, что я смогла что-то понять и посмотреть на мир другими глазами, Господь дал мне еще время.
9812 |
Александра Сужуд«Неизлечимая болезнь: конец или начало». Москва, Издательский совет русской православной церкви, 2007. |
Отзывы:
СПАСИБО!!
Вера Павловна Колубанова , возраст: 55 / 2017-10-31 11:09:08Как жаль, что в продаже нет этой книги, обшарила весь инет. Услышала на радио Вера, нашла здесь, прочла. Слезы!! Спасибо большое!
Вера Павловна Колубанова , возраст: 55 / 2017-10-31 11:08:14Замечательная статья,светлая, полная любви и радости и очень большой силы духа!!!
Светлана , возраст: 37 / 2016-03-23 22:19:45Очень Важная и нужная книга и для больных, но больше, для здоровых Сам проработал в онкологии 30 лет Александра! Большое СпасиБо! С самыми светлыми пожеланиями - Олег (ayama@mail.ru)
Олег , возраст: 56 / 2016-02-20 23:23:45Александра-вы удивительная женщина. Болезнь действительно открывает нашу настоящую сущность и сбрасывает с окружающих людей все маски.Во время моей болезни ушел любимый человек и старая подруга.Но рядом остались действительно близкие и родные люди.И я благодарна за это Богу. Под всеми вашими словами могу подписаться, испытывала и думала практически тоже.Счастья вам, терпения,здоровья вам и вашим близким. Добра и любви.Господь да прибудет с вами.
Вера , возраст: 36 / 2011-07-20 23:11:37Сашенька, радость моя, спаси Господи, за то, что поделилась своей жизнью, болью и радостью. Помилуй нас, Господи и сил дай нам крест свой до Тебя донести.
Александр , возраст: 44 / 2011-01-03 09:52:54| Предыдущая статья | Следующая статья |
| Смотрите также |
Смирение приносит мир в душу
Последние времена
Мученица Мария Гатчинская (В.Васильев )
«Хоть я и стала инвалидом на коляске, но вы не увидите меня без улыбки на лице» (Имя автора неизвестно )
Опыт преодоления скорби (Александр Иванов )
Многолетний страдалец Михаил (Из книги «Райские цветы с Русской земли». )
«Помолитесь обо мне. К сожалению, онкология... И мой драгоценнейший духовный опыт» ( Алена с Илюшей )
Можно ли поднять «сломленные» крылья (Аникина А.Л )