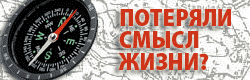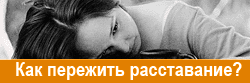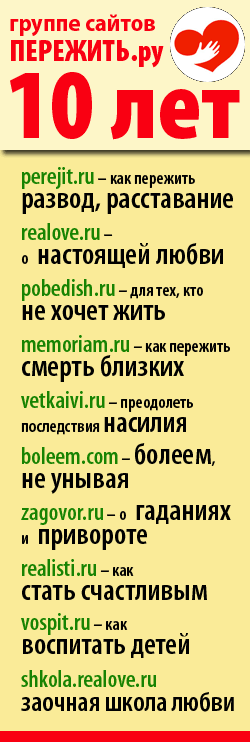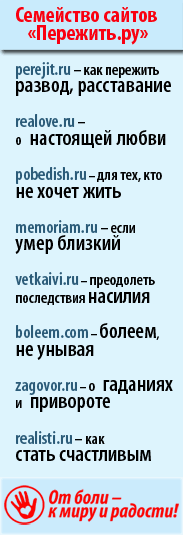Последние времена
«Любить не умею —
И я умираю»
Давид Самойлов
Мы все, и верующие, и неверующие, живем, болеем и умираем вместе — равно страдая, задумываясь, пытаясь понять смысл происходящего. И для тех, и для других болезнь — это испытание, проверяющее на прочность отношение к Богу и к миру. Так было и с автором этих записок.
Я помню этот момент. Женщина-врач встретила меня, осмотрела, очень быстро провела на УЗИ... И когда все было сделано, мы посмотрели друг на друга. И я увидел её лицо. Оно стало очень-очень бледным. Наверное, потому, что врач слишком испугалась. А потом она покраснела: быть может, устыдилась того, что не смогла скрыть своего испуга. И так я понял, что всё серьезно. И подумал, что в одном мне повезло: от меня никто ничего не скрыл. Я как будто летел: проваливался куда-то, но одновременно — почти парил от этого понимания.
Поблагодарив врача за помощь (а она действительно очень помогла мне с больницей и передала меня другому опытному доктору), я вышел в осеннюю Москву, хлюпающую, дождевую, с низкими стремительными облаками. Шел и повторял: «Вот сейчас все и выяснится. Христос теперь совсем рядом. Где-то близко». И на самом деле верил и ощущал, насколько Он близко. Как это небо. Как облака. Как дно пропасти, в которую я лечу...
Болезнь открыла мне новое понятие, иное измерение жизни — Последние Времена. Не вселенские, не в истории мира, но мои собственные последние времена: путь, хотя и неизвестной ещё длины, но уже отмеренный; зримо, определённо конечный. И оттого дающий свободу вольнее распорядиться теми сроками, какие тебе остались…
Услышав «роковые» слова, я почувствовал одновременно страх перед мучением, детскую растерянность — и вместе с тем… ожидание и странную даже радость. По отношению к тому падению, какое происходило в моей жизни и которое я никак не мог остановить, это было благо. Мне Некто сказал: «Ну, хватит, довольно», — и в этом слышался не приговор, но подлинное сострадание к человеку, который уже и так начал мертветь, только гораздо худшим омертвением.
✢✢✢
За пару дней до операции я дома. А что? Руки-ноги ходят (пока?), голова ясная — отпросился домой, отпустили.
Все мои спят, а я перелег в другую комнату и потихоньку смотрю фильмы по видику.
Один, другой... Наконец, выключаю, и комната погружается в ночь. Только на плеере горит одна маленькая красная лампочка. Рядом спят мои родные люди, вокруг — Москва, зимняя, знакомая. А я лежу, уставившись на красный огонёк, — и чувствую себя абсолютно, невероятно одним. Будто вокруг сверх-прозрачное бронированное стекло. Бейся, кричи — и никто не услышит и не разобьёт преграды.
✢✢✢
Один знакомый накануне сказал, что поражён тем, что я по-прежнему шучу, улыбаюсь... «Ты — мужественный человек», — сказал он. Это ерунда. Я хочу, чтобы знали: и меня посещают страшные сомнения, и страх смерти бывает — невыносимый, дикий, липкий и тяжёлый страх.
Достаточно одной маленькой красной лампочки — и вот, кажется, всё восстало против моей веры и вопит откуда-то из живота: «Нету Бога! Ты — один, ты болен, и, возможно, скоро тебя не будет...» Такому животному ужасу вроде бы и противопоставить нечего.
✢✢✢
Но я прошу: не надо отказывать и верующему... в неверии.
Ведь и к Богу воззвали: «Верую, Господи, помоги моему неверию», и Он не отверг. Христе Иисусе, ну почему я не могу увидеть и расслышать тебя — если Ты есть???
Страшное (хотя порой такое удобное!) сознание материальности: как им проникнуто все во мне, до самого краешка, того краешка, где вдруг все материальное кончится и останется один Предсмертный Вопрос!..
Что будет там, где моя, такая живая материя — мертвеет? Что со мной будет?! Не знаю, боюсь, так боюсь, что стыдно за себя.
Но вдруг задумываюсь: отчего же такая сила в роковом крестном вскрике Христа: «Боже, Боже, почто Ты меня оставил!?» Отчего эта страшная фраза Твоя так утешает меня?..
И страшная красная лампочка становится обыкновенной — просто-красной-лампочкой на плеере. И засыпаю спокойно.
✢✢✢
После операции — боль… Впервые я столкнулся с тем, когда действительно — боль! Как всё во мне содрогнулось! Радость того, что уже позади кафельные стены, холодный стол, белый свет операционной, мгновенно сменяются растерянностью и желанием кричать и звать всех на помощь. Почему не сбегаются все на мою боль?! Почему отказываются сделать еще один укол? Только один!! Отчего так буднично и спокойно медсестра произносит: «Потерпите»?! Молиться — не могу, даже просто «Господи, помоги» — не могу. Не получается! Только рука жены, в которую я вцепился, — единственное, что осталось в мире, кроме боли…
Когда боль ушла (сама, без уколов), первое, что осознал и увидел — синяки от моих пальцев на Катином запястье.
Прости меня.
✢✢✢
Молюсь ночью, в онкодиспансере, шёпотом: «Рождество Твое, Христе Боже Наш»... Вьюга глушит рождественские колокола почти до неслышимости, но радость отчего-то так и трепещет, так и требует не прекращаться в сердце моем!
Не могу заснуть, ворочаюсь. Встаю, выползаю в темный коридор, где виден прямо за окнами больницы сверкающий бизнес-центр с толстопузой крышей теннисного корта и нелепой башенкой, словно из детского фильма-сказки. Похоже чем-то на Вертеп, только без Младенца, Марии, Иосифа и пастухов...
А колокольный звон отсюда уже вовсе не слышен. И это вдруг огорчает: ну почему же, ну как же — без колоколов?!..
И я резко поворачиваю в нашу палату, где хрипят и кашляют мои товарищи по болезни — мои братья по Рождеству: Виталик, дядя Коля, Муса... Прикладываюсь к подушке и прислушиваюсь к тому празднику, который дарован Христом для меня и для них. И не могу уснуть — от кашля, вьюги заполночной, от едва доносящихся колокольных звонов Елоховки. От запахов рождественской хвои.
И когда я всё-таки засыпаю, мне кажется: Звезда подмигивает нам, и даже долетает откуда-то издали:
«…Тебе кланятися, Солнцу Правды»...
✢✢✢
О болезни говорят как о духовном лекарстве, средстве от греха… Но мне болезнь кажется не лекарством, а катализатором: всё, что дремало, хорошее ли, дурное, — пробуждается, и вспыхивает нравственная борьба, какой не мог себе представить до болезни.
Это не только физический, но и духовный шторм. Пытаешься выплыть, ступить на твёрдую почву, но вдруг оказываешься без веры, среди пены и тёмных волн — и вера вот-вот захлебнётся вместе с тобой. Но ты снова и снова пытаешься повернуть к берегу….
✢✢✢
Нет, ну подумайте: ведь по сути я совершеннейший, совершеннейший материалист! Ленящийся просыпаться, стесняющийся утки и судна, жадно выхлёбывающий куриный бульон; зависимый от погоды, вечно думающий о деньгах... Отчего же самым сокровенным, почти несознанным желанием своим, я так хочу, чтоб за меня хоть кто-нибудь... молился?..
И отчего же, узнавая, что некто и вправду молится обо мне, старается помочь, переживает, — я совершенно не умею нормально, от души сказать, что благодарен?.. Просить прощения и благодарить — две вещи, которые я умею хуже всего. А раз так — какой из меня христианин?..
✢✢✢
У бывшего архитектора Рудольфа нет голосовых связок и половины горла. Внизу, на шее, фистула — дырка, через которую он дышит, тяжело, с кашлем. На его подбородке и щеках растут, причиняя ноющую боль, опухоли. Однако я давно не встречал такого живого — то весёлого, то вдруг кипятящегося (в основном, из-за Путина, Зюганова и прочих политиков) человека. С ним можно говорить — он двигает губами, сипит со смыслом, и если, не отвлекаясь следить за сипением и губами, то всё понятно. Он старается иметь побольше свежих газет, в основном коммунистических, хотя его тошнит от «химии», болит голова и любое чтение даётся трудно.
Он все время называет себя атеистом, коммунистом, и мы с ним часто и горячо спорим. Но когда на меня, лежащего под капельницей, наползает откуда-то тяжкий, панический страх, он всегда садится рядом и просто держит меня за руку. Я забываю свои страхи, а Рудольф беззвучно шевелит губами:
— И всё-таки, если там, — Рудольф отпускает меня и показывает пальцем наверх, — есть Бог, то я очень прошу Его, чтобы Он помог тебе!..
— И тебе, Рудольф...
✢✢✢
Катя приходит и рассказывает, как дочки молились за меня вчера вечером. И горько, серьезно плакали. «Господи, ну исцели же нашего папочку, чтобы у него прошла эта опухоль! Пусть папа не умирает!» Никогда до того они не плакали на молитве. Да и откуда — в пять лет?..
Иногда посмотришь на своих детишек — и хочется расплавиться, чтобы душа закапала. Или стать прозрачным — только бы эти маленькие человечки смогли понять, что происходит во мне, когда думаю о них, когда вижу…
✢✢✢
Любитель научной фантастики — в детстве, я мечтал о времени, когда наука сделает нас прозрачными. Человек-невидимка тут ни при чём: мне хотелось, чтобы прозрачными стали не тела только, но наши мысли и чувства.
Я думал: если мы видим друг друга насквозь, то даже космос покажется мелким и скучным по сравнению с тем, что откроется в нас, и… И вот тогда мы уж точно не сможем лгать друг другу и ненавидеть…
Я, конечно же, понимаю, что наивно рассуждал тогда. Быть может, душа ещё не была так запятнана?..
Но, знаете, я убеждён: христианство ищет того же, чего я в детстве: возможности без боязни заглянуть друг в друга — и полюбить другого как себя самого. Пусть вовсе чужого, пусть врага.
Мне кажется, потому так смиренны и не-обидчивы, так полны любви и сострадания — даже к мучителям и гонителям своим! — многие святые. Они и здесь, на земле уже видят наши детские души, и для них нет преграды, чтобы любить нас до самопожертвования.
✢✢✢
Мои друзья, хорошие, молитвенные, церковные люди, принесли книжку, из-за которой у нас вышел спор. Обложка, шрифт, оформление — всё в этой книжке вопиет о «церковности», а повествует она о том, как мне спастись от смерти... водкой на постном масле. Нет, кроме шуток. Дескать, «старцы» (старцы в таких изданиях всегда анонимны либо, если есть имя, то совершенно отсутствуют ссылки на какие-либо другие авторитетные источники: издания, архивы) давно знают лекарство от рака. Оно очень простое, но до недавнего времени знатоки тайну почему-то скрывали. Но пришло время, и безымянный автор восклицает, точно по «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина: «Наконец-то нашли!» Оказывается, спасает от рака регулярно выпиваемая водка с подсолнечным маслом.
Я спрашиваю у друзей, зачем водка, если на моих глазах врачи, делая операции, подбирая лекарства для химиотерапии, делают всё, чтобы мне и моим товарищам по болезни — помочь? Я вижу, как борются с опухолями, я уже знаю, что многие виды рака излечимы. А ещё я прекрасно помню, как умерла Ксения Курякова — мама трёх детей, которая отказалась от лечения и стала «лечиться» по этим самым заветам «старцев»... Её похоронили очень скоро — а я знаю, что она могла бы ещё жить. Так почему же?!
И в ответ слышу, что врачи «только портят», что они не умеют лечить «по-настоящему»... Я слышал это всю свою жизнь. Но задумался лишь накануне операции. Когда вышел из онкодиспансера и увидел расклеенные на стенах ксерокопии, увенчанные иконками и крестами: «Исцеление за три дня»; «Молитва и заговор. Стопроцентная гарантия излечения»... Впервые я подумал, что эти бумажки вокруг — дело антихристианское. Даже если забыть о словах Писания, где сказано прямо: почитай искусство врача (Сир 38:1–4). Под образом Креста, на котором умер Спаситель, предлагать людям идти к колдуну, звать в язычество?! Призывать людей так держаться за свою земную жизнь, чтобы броситься к колдуну?
Мне раньше не приходилось выбирать между жизнью и смертью. Но когда этот выбор стал отчасти зависеть и от меня — я понял, что не любую жизнь готов выбрать. И не любому доверю попытку мою жизнь сохранить. И если я доверился врачам, зная, что они такие же люди, как и я, то должен принять и то, что не всё в человеческих силах, не всё в руках врачей. И не смею их осуждать за свою смерть, которая рано или поздно явится за мной.
Я сказал моим друзьям: «Что вы знаете о врачах? И что вы знаете об этих «старцах»? Как же так: я знаю, каким образом меня лечат, зачем нужны операция и химиотерапия. Я вижу моих врачей каждодневно, и не решился бы оказаться на их месте и делать то удивительное дело, которое они делают — вопреки нищете, недоверию, своему бесправию.
Я знаю также святых врачей; знаю и то, что на самом деле призывает меня делать Церковь, особенно в болезни: это молитва, покаяние, пост и принятие Таинств. И еще: мне сотни раз приходилось быть свидетелем того, как люди повторяли те же самые жестокие слова осуждения, — но не о врачах, а именно о православных священниках.
И думаю о том, что надо бороться, чтобы изменилось наше языческое, нетерпимое, полное осуждения отношение как ко священнику, так и ко врачу. И начать с того, чтобы не верить анонимным «старцам», а доверять живым, имеющим имена и ответственность, духовникам нашим и докторам».
Так пришлось мне ответить моим друзьям. Я знал, что они хотят мне только добра, и они услышали меня. Не обиделись. Поняли. И молились после этого за врачей и священников, которым я обязан тем, что до сих пор ещё жив...
✢✢✢
Что я — без Евангелия — знал о любви?! Чем могу похвалиться в любви — после того, что узнал оттуда?
И как ничтожна моя болезнь по сравнению с той любовью, которую подарили мне мои близкие и друзья!..
✢✢✢
Я проходил коридором, мимо открытой двери, а на меня посмотрела умирающая женщина. Я ещё не знал, что она умирает. Она глядела на меня, но как бы насквозь — удивленными огромными глазами. Что она такое увидела? Я хотел понять — и не мог оторвать взгляда. Но прибежала наша врач, молодая и уверенная в себе Елена Ивановна, за нею ещё какие-то высокие мужчины в халатах с аппаратами, и дверь захлопнули. И оттуда донеслись голоса:
— Не надо волноваться. Всё хорошо. Вы нас слышите? — донеслось до меня. И чей-то мужской голос начал настойчиво просить «Дышите». А иногда считали: «Раз-два-три», повторяли: «Вот и хорошо» и снова говорили, что надо дышать и задавали один и тот же вопрос: «Вы нас слышите?» И ещё что-то…
Я ушёл в нашу палату и сел на койку, рядом со спящим Рудольфом, дышавшим свистляво сквозь свою фистулу, вставленную в горло. Молитвослов листался-листался, да не читался как-то. Полчаса вот так прошло, может и больше… Там, в коридоре открылась и снова захлопнулась дверь, слышны были тяжёлые шаги реаниматологов, и всё стихло. И словно какое-то веяние, дуновение почувствовал я. И понял, что это — смерть.
По оконным стёклам ползли серые мокрецы — мартовский снег с дождём.
И тут мне вспомнилось, что я хотел спросить кое-что у врача, у Елены Ивановны. Может, что-то о поведении после химии: может, что-то хорошо от рвоты помогает…
Каталка давно увезла тело женщины, смотревшей на меня в прошедшей жизни. Коридоры были по-прежнему пусты, словно все решили поскорее спрятаться. Я повернул в ординаторскую, шагнул за порог и застыл. Хотя сразу увидел Елену Ивановну.
Она сидела очень бледная, очень прямая — локти на стол — над какими-то бумагами (история болезни?), ручка валялась в углу стола. Сидела, глядя на меня, но опять же сквозь, почти как та, умершая. И у неё сильно, прямо добела были сжаты руки. Лакированные ногти так и сверкали… Губы двигались, шептали что-то…
Я чувствовал, что почему-то должен запомнить это, не знаю, может, потому, что я раньше думал о Елене Ивановне… Ну как вам сказать? Ну, что она молодая, эффектная такая, на иномарке муж за ней заезжал, и она ему что-то отвечала, кокетливо, улыбаясь… Такая уверенная в себе…
Может, в её практике пока что мало было смертей.
Я ещё постоял чуть-чуть, потому что мне было неожиданно хорошо рядом с её скорбью. Потому что моё сердце так много, оказывается, вобрало в себя страха и томления — я даже и не подозревал, что так много. И вот, оказался вдруг рядом врач, и я теперь мог плакать свободно и думать о том, что в мире, конечно же, непременно, всё-таки есть Бог.
✢✢✢
Когда я думаю о том, что редко чувствую присутствие Бога, что ощущаю страх смерти, то причину этого вижу в себе самом. Потому что, думаю, я совершенно не делаю того, чтобы я должен был бы делать, чтобы иметь такое счастье. Я слишком несерьезно люблю, я не умею любить.
Есть замечательные, очень важные строки у поэта Давида Самойлова, который не был православным, верующим человеком и, может быть, о другом писал, но как бы и обо мне и для меня:
Любить не умею,
Любить не желаю,
Я глохну, немею
И зренье теряю.
И в конце: «Любить не умею — И я умираю».
Если я не умею любить, если перестаю любить, то я умираю — и физически, и духовно, потому что в моей жизни нет больше смысла. Если хочешь убедиться, что есть Бог, то и любить надо в соответствии с той мерой, которую христианство предлагает в любви.
Умереть можно и в этой жизни — если перестать любить. Но если взращивать и воспитывать в себе любовь — то останешься живым до конца. И даже после смерти...
foma.ru
9722 |

|
Гурболиков Владимир Александрович, |
Отзывы:
Спасибо! Для меня первоначальный приговор прозвучал не так страшно как другой - рецидив...И как бы не сочувствовали родственники, друзья, все равно человек один на один остается со своей бедой, со своей болезнью...дай вам Бог здоровья!
Татьяна Лазарева , возраст: 45 / 2011-12-03 10:39:52Очень личное, но для меня оказалось важным. Ответили на многие вопросы, которые скрываешь от других, но они мучают своей неразрешимостью. Да дарует Вам Господь мир и здравие .
Ольга , возраст: 57 / 2011-06-03 12:55:13Здорово написано!!
Александра , возраст: 47 / 2010-07-18 23:55:41| Предыдущая статья | Следующая статья |
| Смотрите также |
Смирение приносит мир в душу
Мученица Мария Гатчинская (В.Васильев )
«Хоть я и стала инвалидом на коляске, но вы не увидите меня без улыбки на лице» (Имя автора неизвестно )
Опыт преодоления скорби (Александр Иванов )
Многолетний страдалец Михаил (Из книги «Райские цветы с Русской земли». )
«Помолитесь обо мне. К сожалению, онкология... И мой драгоценнейший духовный опыт» ( Алена с Илюшей )
Можно ли поднять «сломленные» крылья (Аникина А.Л )
Перед открытой дверью (Александра Сужуд )